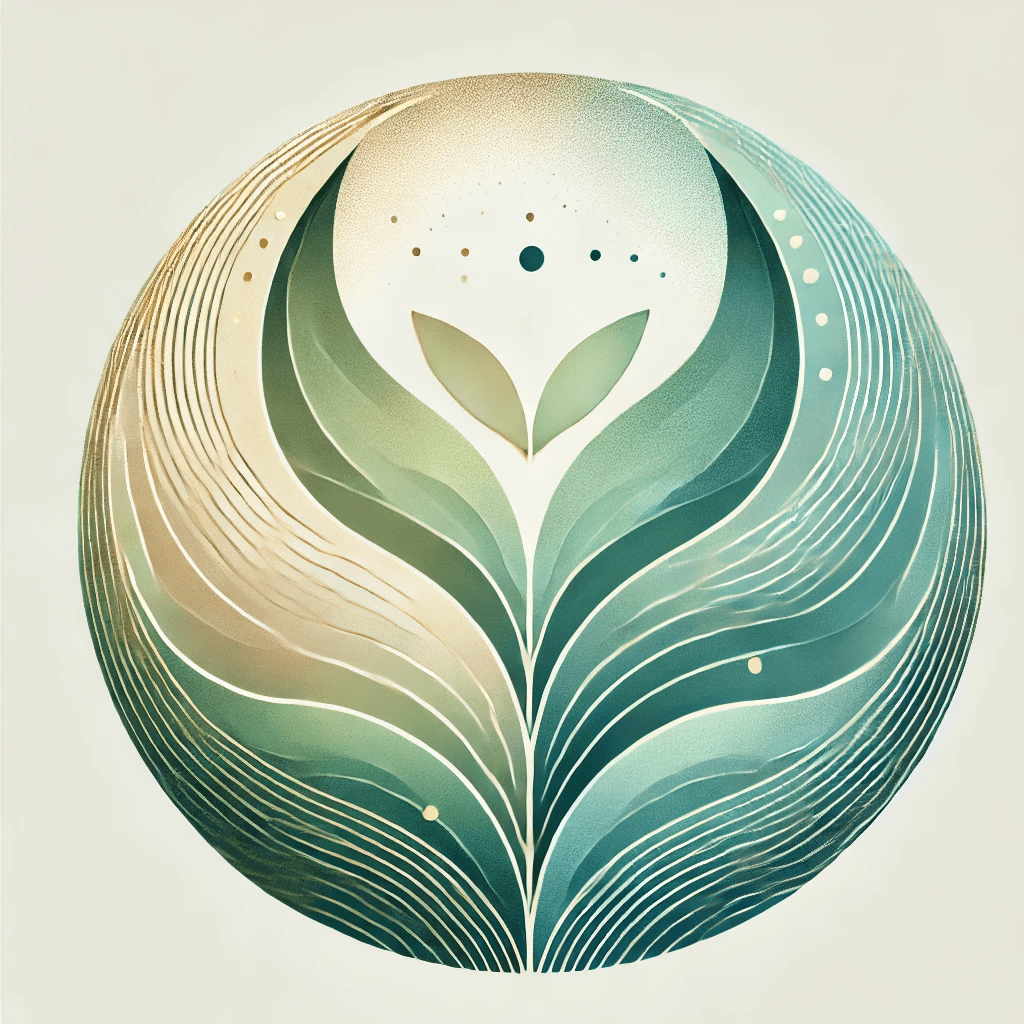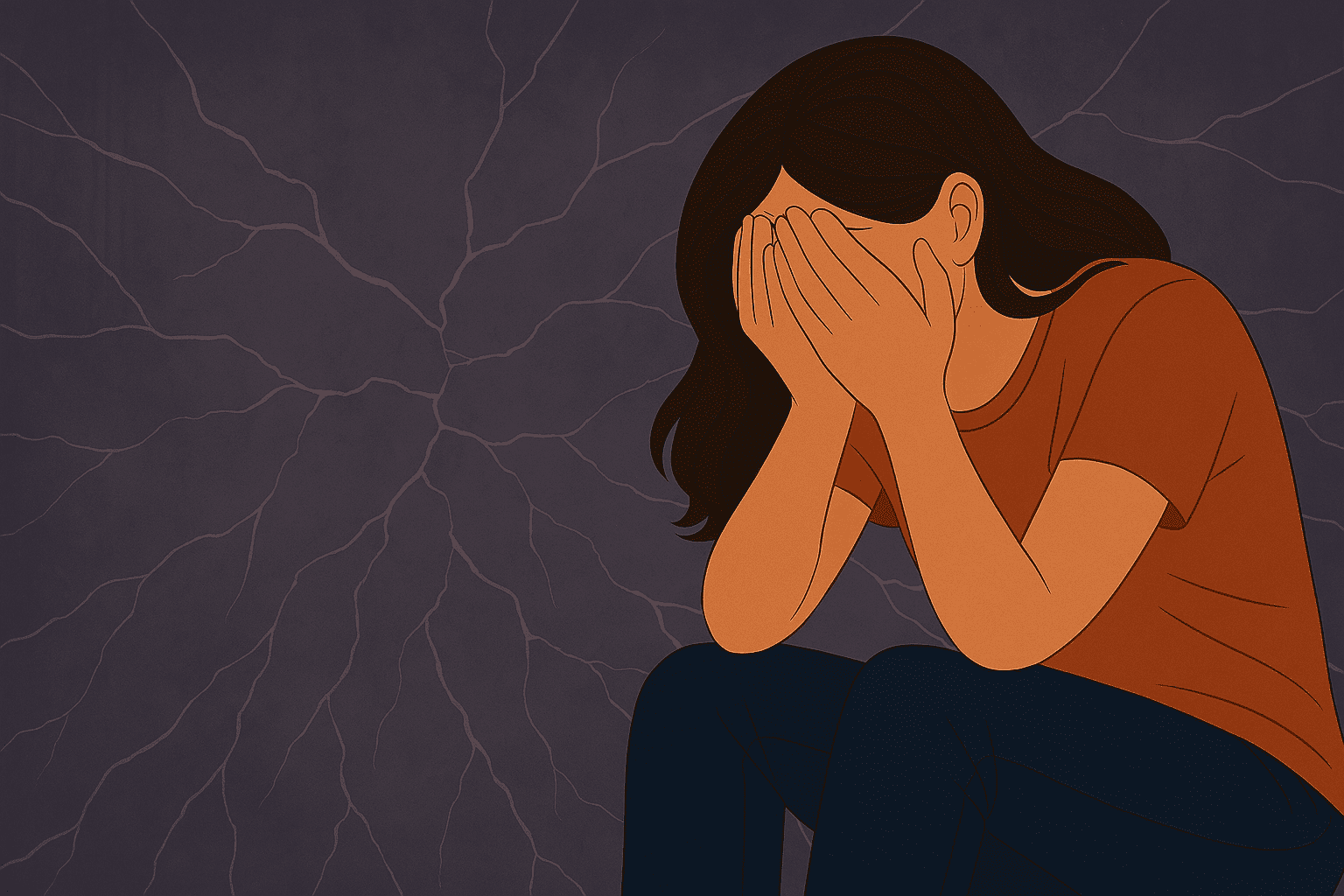Я долгое время винила себя буквально за всё: за свои поступки, за чувства, за то, что происходило вокруг, даже если это не зависело от меня. Где-то глубоко внутри укоренилась мысль, что я — какая-то не такая. Что я слабая, неудобная, слишком чувствительная. Или наоборот — недостаточная, чтобы заслужить любовь. Эти слова могли быть произнесены вслух, а могли звучать молчаливым укором — но они осели в сознании, как плесень в стенах. Постепенно я начала верить: весь хаос, боль и разруха вокруг — это моя вина.
Опыт жестокого обращения стал почвой, на которой проросли губительные убеждения: я заслуживаю страдания, это всё из-за меня, и если бы я просто была «другой», всего бы этого не случилось. Это типичный сценарий для тех, кто пережил сложную травму — длительное, повторяющееся насилие, особенно в детстве. В таких условиях рождается токсический стыд — ощущение, что ты испорчен до самой сути, что в тебе что-то глубоко неправильное.
Как психотерапевт с многолетней практикой, я вижу, насколько разрушителен этот внутренний приговор. Люди, пережившие C-PTSD (комплексное посттравматическое стрессовое расстройство), как правило, не просто чувствуют вину — они живут в ней. Самоосуждение становится неотъемлемой частью личности.
Почему так происходит? Потому что для ребёнка, переживающего жестокое обращение, гораздо безопаснее поверить: «я плохой, но меня всё ещё любят», чем признать ужасную правду: «они плохие, и я остался совсем один».
Детское мышление эгоцентрично. Оно ищет причину происходящего внутри себя. Ребёнок не может сказать: «это с ними что-то не так». Он говорит: «это со мной что-то не так». Так ребёнок сохраняет хоть какую-то иллюзию контроля. Ведь если это из-за меня, значит, я могу измениться — и меня снова полюбят.
В итоге самобичевание превращается в форму лояльности. Если обвиняешь себя — ты как бы остаёшься рядом с теми, кто причинял боль. Это особенно трагично, когда обидчики — родители. Признать их вину значило бы разрушить саму основу привязанности.
Таким образом, внутреннее обвинение становится не только привычкой, но и способом выживания. Оно объясняет хаос, создаёт иллюзию управляемости. Если это я виновата — значит, можно было всё предотвратить. Значит, есть шанс «переделать» ситуацию.
Вот почему так трудно выйти из этого круга. Человеку проще обрушить гнев на самого себя, чем признать: тебя предали. Бросили. Те, кто должен был защитить, стали источником боли. А потерять их полностью — было невозможно.
«Если это моя вина, значит, я могу это исправить. Если стану лучше — может, они перестанут причинять боль».
Так работает логика травмы. Внутренний голос превращается в сурового критика. Он следит, осуждает, не прощает. Внешнюю опасность человек заменяет внутренним контролем. Это уже не гипербдительность вовне, а беспощадное сканирование самого себя.
«Если я сам найду, в чём не прав — меня никто не ранит первым».
С годами это перерастает в перфекционизм, стремление угодить, замыкание, неспособность отказать или обозначить границы. Ведь неумение говорить «нет», отстаивать свои нужды и желания — это тоже результат травмы. Это состояние, когда фраза «мне больно» становится недоступной.
«Я заслужила это».
«Я всё порчу».
«Я виновата, что не могу исцелиться».
Самообвинение пускает корни так глубоко, что со временем может перерасти в самоненависть. И тем не менее именно в осознании этой ловушки — ключ к исцелению.
Однажды я поняла: обвиняя себя, я просто пытаюсь вернуть себе хоть какую-то власть. Ведь в беспомощности — страшно. Но это ложная власть. Это не свобода. Это не любовь.
Осознать, что мои родные и партнёры были небезопасны — было страшно. Но признать это — оказалось первым шагом к свободе.
В моей семье не было ни поддержки, ни эмпатии. Только грубость, стыд и молчаливые ожидания. Ни о каком обучении жизни, самоценности или базовых навыках речи не шло. Я не умела говорить о чувствах, ставить цели, вести диалог. И это — не моя вина. Меня просто не научили.
Но вместо этого я винила себя за каждую неудачу. За неспособность «нормально» жить. Я повторяла себе: «что со мной не так?» — хотя правильный вопрос был: «почему никто не помог мне научиться?»
Жизнь без необходимых навыков — и с постоянным чувством вины — толкает в замкнутый круг. Ты либо замираешь (диссоциация, оцепенение), либо начинаешь «подстраиваться» под других, лишь бы избежать отвержения. Это реакция «угождения» — один из способов выживания при травме.
Ты не говоришь «нет», потому что не знаешь, как.
Ты не меняешь свою жизнь, потому что не видишь пути.
И вот ты снова внутри — наедине с собой и самобичеванием.
Однако именно осознание того, что всё это — симптом травмы, а не «твоя суть» — открывает путь к исцелению.
Да, это сложно. Да, непросто отпустить вину, с которой ты жил годами. Но это возможно.
«Исцеление — это медленное возвращение к себе. К своей невинности. К своей ценности. К своей силе.»
Это путь через скорбь — по утраченной детской безопасности. Через слёзы — за ту любовь, которую ты так и не получил. Через прощение — не обидчиков, а себя. За то, что выжил. За то, что держался.
Терапевт Карл Роджерс говорил: чтобы человек изменился, его не нужно критиковать. Его нужно принять. Без условий. Без «если». Только так он начнёт чувствовать себя в безопасности — и сможет измениться.
Эмпатия. Поддержка. Подлинность. Именно они становятся базой для роста.
Из ненависти не рождается ничего живого. Она только усиливает изоляцию. Чтобы вырасти, надо разрешить себе быть ранимым.
Исцеление начинается там, где появляется безусловное принятие. Сначала — от терапевта. А потом — изнутри себя.
Этот внутренний голос должен научиться говорить:
– «Ты ни в чём не виноват.»
– «Ты сделал всё, чтобы выжить.»
– «Ты достоин любви, даже если пока в это не веришь.»
Будь то телесно-ориентированная терапия, работа с внутренними частями или простые практики самосострадания — всё это помогает выстраивать новые нейронные связи.
Слова насилия — «ты сам виноват», «ты — проблема» — записываются в тело. В мозг. Они становятся частью внутреннего монолога. Но это не приговор. Это можно переписать.
Да, потребуется время. Много времени.
Да, придётся повторять себе тысячу раз:
– «Это не моя вина.»
– «Я выжил — и это уже подвиг.»
– «Я учусь любить себя. Снова. Сначала.»
Самобичевание — это не правда. Это симптом.
И отказаться от него — значит не забыть боль, а больше её не нести.
Вернуть себе то, что всегда было твоим: достоинство. Силу. Голос.
И только тогда открывается новая жизнь. Без вины. Без стыда. С любовью к себе.
***✨ А что думаете вы? ✨
Делитесь мыслями в комментариях — ваше мнение вдохновляет нас и других!
Следите за новыми идеями и присоединяйтесь:
• Наш сайт — всё самое важное в одном месте
• Дзен — свежие статьи каждый день
• Телеграм — быстрые обновления и анонсы
• ВКонтакте — будьте в центре обсуждений
• Одноклассники — делитесь с близкими
Ваш отклик помогает нам создавать больше полезного контента. Спасибо, что вы с нами — давайте расти вместе! 🙌